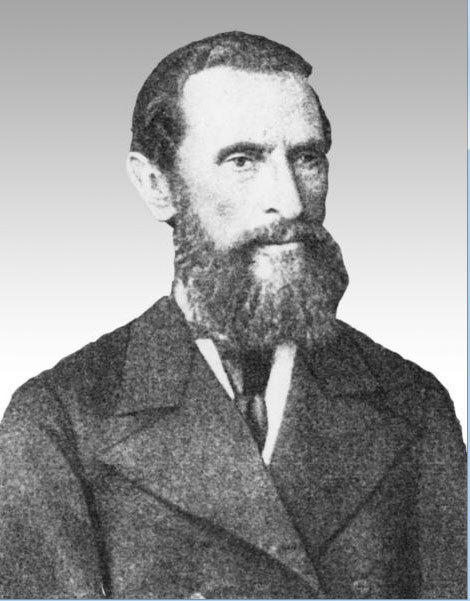Кн.Демидова Ч.4
Княгиня Аврора Карловна Демидова
Четвертая страница.
Хлопоты о Иосафате Огрызко фаворите княгини.
Теперь о Иосафате (по другой транскрипции Юзефате) Огрызко. Впервые он, белорус по происхождению, в дом Демидовых-Карамзиных попал, скорей всего, в 1853 году. Его сначала (видимо, по рекомендации Плетнёва) взял к себе адъютантом Андрей Карамзин.
К тому времени Иосафату Огрызко исполнилось 27 лет. За его плечами были юридический факультет Петербургского университета и служба в кодификационной комиссии, которая занималась ревизией и составлением новых законов Царства Польского. В демидовском доме он отвечал прежде всего за уроки для сына хозяйки – Павла Демидова, а в оставшееся время занимался разбором бумаг хозяина – Андрея Карамзина.
Карамзины относились к Огрызко чуть ли не как к родственнику. Известный специалист по уголовному праву Владимир Спасович, подружившийся с Огрызко ещё в университете, прямо утверждал, что в доме Карамзиных «Огрызко был высоко ценимым другом всей семьи». Карамзины ценили его интеллект и обаяние. Вот что, к примеру, писал о нём племянник Авроры Карамзиной – будущий князь В.П. Мещерский (он, правда, именовал его Огрицко). «Огрицко был при моей тётке, А.К. Карамзиной, чем-то вроде домашнего секретаря по преемству от её мужа и моего дяди, убитого в турецкую войну, Карамзина. Функции его были несложны, что позволяло ему заниматься своими делами. А его собственные дела заключались в начатой им тогда работе – собрании польских законов для предпринятого им труда «Volumina Legtm», и в группировании около себя, под предлогом сотрудничества, разных вольнодумцев из молодых людей университета и из своих сверстников. В ту пору я с ним виделся довольно часто в доме моей тётки, и затем он заходил ко мне, и мы с ним часто беседовали, а так как он был блестяще умён и приятен в беседе, то я не мог не находить большого удовольствия в обществе с ним. Общим тоном всех разговоров Огрицки была тонкая ирония. Он относился ко всему, что делалось, не только скептически, но насмешливо, исходя из мысли, что всё это ребячество в сравнении с тем, что нужно. А нужно было, по его мнению, радикальное изменение строя жизни, и именно государственной жизни, в смысле прекращения всего, что он называл деспотизмом и произволом. По его мнению тогдашнему, если правительство не примет на себя инициативу либерального, самого решительного переформирования государственного строя, начнётся внутренняя или подпольная работа всех элементов, забитых, униженных и недовольных, против правительства, и неизбежно, путём революционным, действия достигнут того, что теперь, пока ещё есть время, правительство могло бы устанавливать путём спокойным. Когда на эти мысли я ответил Огрицко вопросом: «Да где же вы берёте эти революционные элементы? Я, признаться, их не вижу», – он мне добродушно ответил, что ими кишат все канцелярии и департаменты, ими кишат все наши университеты, что они везде есть и только слепые их не видят».
Однако впоследствии пути Мещерского и Огрызко решительно разошлись. Мещерский стал страшным консерватором, резким противником любых либеральных идей и поборником усиления роли самодержавия и церкви. А Огрызко считал, что политическая система страны нуждалась в кардинальном реформировании. При этом его весьма долго поддерживали как либералы, так и многие славянофилы.
В 1857 году Аврора Карамзина, используя свои связи, поспособствовала тому, чтобы Огрызко взяли столоначальником по золотодобывающей промышленности в Департамент горных и соляных дел. Скромная должность в этом департаменте позволила моему однофамильцу быстро обрасти хорошими связями на самых высоких уровнях. Но сама чиновничья работа его не удовлетворяла. Ему было скучно перебирать разные бумажки. Он жаждал настоящего дела, которое способно было в какой-то мере изменить умонастроения в обществе. Таким реальным делом, по его мнению, могла стать газета.
7 августа 1857 года Огрызко обратился в Цензурный комитет с просьбой разрешить ему выпускать на польском языке ежедневную газету «Слово». Но эта идея решительно не понравилась министру иностранных дел России князю Александру Горчакову. Формально он придрался к тому, что в Петербурге отсутствовал цензор со знанием польского языка. Но реальная причина крылась в другом. Горчаков терпеть не мог Огрызко. Он видел в нём своего соперника.
Дело в том, что Горчаков в ту пору был не прочь приударить за его хозяйкой – Авророй Карамзиной. Как вспоминал князь Владимир Мещерский, Горчаков «бывал тогда по вечерам в кабинете моей тётушки, Авроры Карамзиной, которая, несмотря на свои 50 лет, была ещё в то время стройной красавицей и к которой князь Горчаков питал культ». Но Карамзина взаимностью не отвечала. Ей всё больше и больше нравился Иосафат Огрызко. Между ними уже давно завязался, как бы сейчас сказали, служебный роман, который в любой момент мог перерасти в нечто большее.
Уладить все цензурные тонкости Огрызко помог его старый приятель и очень опытный юрист Константин Кавелин. Разрешение на выпуск газеты было получено 31 января 1858 года.
Деньги на типографское оборудование Иосафату Огрызко дала Аврора Карамзина. Она уже несколько лет не просто покровительствовала своему бывшему домашнему секретарю, а была в него влюблена. Кроме того, ей оказались близки многие идеи Огрызко. Она не забыла проходившие на её глазах парижские события 1848 года. Будучи противницей всяких революций, эта женщина в то же время понимала, что без перемен не обойтись. Вопрос заключался в другом: в каком русле следовало проводить реформы.
К сотрудничеству с газетой Огрызко привлёк профессора Петербургского университета Владимира Спасовича, поэтов Антония Чайковского, Яна Станевича, Эдварда Желиговского, приятеля юности Балтазера Калиновского, других представителей польского землячества в Петербурге. Но сам он в свою газету не писал. Как вспоминал его современник Осип Пржецлавский, «Огрызко вовсе не был литератором и даже, как природный белорус, не знал польского языка настолько, чтобы мог редактировать газету». Для него важно было другое: держать под своим неослабным контролем редакционную политику. Приоритет он давал трём темам: крестьянскому вопросу, проблемам просвещения и международным известиям.
Первый гром грянул в феврале 1859 года. Кто-то тогда подсунул наместнику русского императора в Варшаве князю Михаилу Горчакову номер издаваемой Иосафатом Огрызко польской газеты «Слово» с публикацией короткого письма польского историка Иоахима Лелевеля. Соратники Огрызко грешили на товарища министра народного просвещения Николая Муханова. По одной версии, Муханова возмутило не само послание Лелевеля (оно по всеобщему мнению носило абсолютно невинный характер). Якобы Муханова взбесило другое: как это Огрызко посмел дать слово Лелевелю, который ещё в 1830 году добивался от Николая Первого акта об отречении от польского престола. Муханов вроде бы испугался, как бы история не повторилась. Хотя какое могло быть повторение! Если верить одному из приятелей Огрызко – цензору Осипу Пржецлавскому, навестившему Лелевеля в 1858 году в Брюсселе, бывший властитель польских умов «жил на чердаке, в полном убожестве, обставленный и обложенный книгами», всячески осуждал политические увлечения Адама Мицкевича и уже не питал к России никакой вражды. Но существовала вторая версия, носившая личный характер. Николай Муханов был братом первого жениха Авроры Карамзиной – Александра Муханова. И ему якобы было больно видеть, как бывшая невеста его брата потворствовала всем задумкам молодого белорусского юриста и издателя. Он будто бы очень хотел Карамзиной отомстить и только искал повод.
Но лично мне версия мести кажется неубедительной. Во-первых, к Авроре Карамзиной всю жизнь очень благоволил самый младший брат Мухановых – Владимир. Он всегда, вплоть до самой смерти, отзывался о ней только в почтительных тонах и ни разу не позволил себе публично усомниться в её поступках. Зная же, как братья бережно относились друг к другу (я имею в виду Николая и Владимира), невозможно предположить, чтобы Николай захотел доставить Владимиру боль. Это второе. И третье. Пусть и с опозданием, но Николай Муханов всё-таки публично осудил окружение Михаила Горчакова за нападки на Иосафата Огрызко.
Тем не менее через три дня после публикации письма Лелевеля, 26 февраля, Иосафата Огрызко бросили в казематы Никольской куртимы Петропавловской крепости. Сотрудничавший с редакцией газеты «Слово» офицер Академии Генштаба поэт Ян Станевич потом вспоминал, как на одном из литературных обедов Николай Некрасов воскликнул:
Плохо, братцы, беда близко:
Арестован наш Огрызко.
Возмущённый произволом властей, Александр Герцен (1812 – 1870) 15 апреля 1859 года в «Колоколе» объявил: «Г-н Огрызко поместил в своём журнале «Слово» письмо знаменитого Лелевеля и несколько тёплых, благородных слов о нём. Этот поступок навлёк на г. Огрызко двугорчаковский гнев. Огрызко схватили, журнал запретили».
Разразился страшный скандал. В защиту Огрызко вступился Иван Тургенев. Много лет друживший с ним Павел Анненков вспоминал, как известный писатель, поддавшись духу времени, сочинял, а потом препровождал Александру II письмо. «Мы видели черновую этого всеподданнейшего письма, очень красноречиво составленного, – признавался уже в 1885 году Анненков. – Решаемся на память передать его содержание. Не зная сущности дела, Тургенев просил не о снисхождении к виноватому, а о восстановлении его во всех его правах. Письмо, между прочим, говорило, что арестованием издателя польской газеты и упразднением её самой нарушаются великие принципы царствования, что мера потрясает надежды и доверие, возлагаемые на него русским обществом как на освободителя крестьян и как на лицо, провозгласившее с высоты престола неразрывное слияние интересов государства с интересами подданных; что он, проситель, считает своим долгом высказаться откровенно, исполняя тем, во-первых, прямую обязанность верноподданного, а во-вторых, выражая своим поступком глубокую признательность за защиту, которую государю угодно было однажды оказать самому составителю письма». Письмо, конечно, не имело никаких последствий для Тургенева и оставлено было без ответа. Тургенев рассказывал только потом, что, встретившись с Государем на улице и поклонившись ему, он мог приметить строгое выражение на его лице, а в глазах прочесть как бы упрёк: «Не мешайся в дело, которого не разумеешь».
Даже старожил цензуры Александр Никитенко, сильно недолюбливавший Иосафата Огрызко и считавший, что власть совершенно справедливо закрыла газету «Слово» (как он отмечал в своём «Дневнике», письмо Лелевеля «одно по себе, может быть, и невинное, но преступное потому, что оно доказывает связь редактора с государственным преступником»), яростно негодовал по поводу ареста издателя и заточения его в Петропавловскую крепость.
далее...